Альманах. Сириус. Регионы
литературный сборник молодых авторов
Самый надежный путь к успеху — через провал
Злата Климова и Надежда Казакова
14 и 17 лет
14 и 17 лет
Фото: © iStock
Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»
Каникулы — пора отдыха. Но не для тех, кто живет олимпиадами. Под Екатеринбургом в образовательном центре Фонда «Золотое сечение» на берегу живописного озера Таватуй близ Екатеринбурга все три летних месяца школьники готовятся к олимпиадам по различным предметам. Наставник направления «Биология» — Александр Анатольевич Ибатуллин, заместитель директора по олимпиадной деятельности Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета. Он же — старший преподаватель кафедры химии и биологии УрФУ, а также педагог Образовательного центра «Сириус». В этом году Александр Анатольевич вошёл в состав Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников и теперь вместе с коллегами составляет задания регионального и заключительного этапа олимпиады по биологии. Мы встретились с ним, чтобы узнать, как и почему взрослые становятся идейными вдохновителями ВСОШ и что ждет олимпиадное движение.
— Что входит в ваши обязанности?
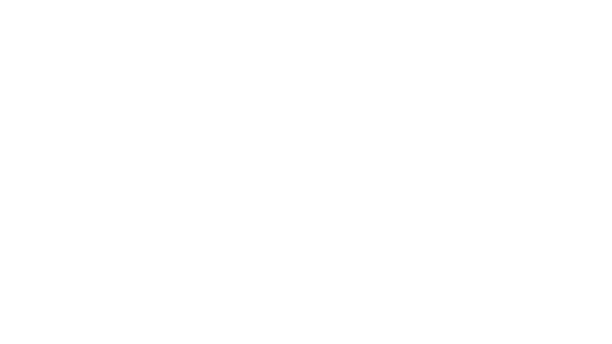
Фото: © iStock
— В СУНЦ я занимаюсь организационными моментами, связанными с проведением школьного и муниципального этапа. Также помогаю в организации регионального и заключительного этапов. С этого года мы реализуем в СУНЦ школу подготовки к олимпиадам вроде той, что проходит на Таватуе. Соответственно, пытаемся повысить количество призёров и победителей заключительного этапа, и, возможно, в ближайшее время у нас появятся ребята, которые выйдут на международные олимпиады и что-то возьмут там.
— Вы сами участвовали в олимпиадах?
— Да, но в нашей школе, а я из Снежинска Челябинской области, был не очень сильный педагогический состав. Учитель был великолепный, но «не олимпиадный», поэтому я вышел на региональный этап и завалил там практический тур по биологии. С тех пор я сделал вывод, что олимпиадное движение должно сопровождаться педагогом с определённым пониманием специфики подготовки, — а она отличается от традиционных приёмов, техник и методик, — с нужным складом характера и колоссальной верой в успех, который, конечно, достигается далеко не сразу. Если есть такой взрослый наставник, ребята получают хороший результат.
— Вы были отличником в школе?
— Нет, никогда. Мальчики редко бывают отличниками. Да и начинал я учиться в одной школе, потом перешёл в другую, более сильную, и поэтому было очень тяжело догонять ребят, которые уже знали больше меня. Будучи студентом, я всё же закончил педагогический университет с красным дипломом. Поэтому в какой-то мере реализовал потенциал отличника.
— Сталкивались ли вы с синдромом отличника у детей?
— Да, ведь я веду подготовительные курсы по поступлению в СУНЦ для семиклассников. Туда приходят дети с таким синдромом. Но потом, поступив в лицей, они понимают, что тянуть одновременно все предметы на отлично невозможно. Нужно выбирать. И они выбирают. Кто может тянуть олимпиадное движение — тянут его, кто-то решает двигаться в проектной деятельности. Ну и всегда остаются те, кто всё же упорно «идёт на золотую медаль».
— Почему вы стали преподавать олимпиадное движение для школьников и как вы попали в лагерь на Таватуе?
— Я в этом деле уже давно, лет десять. Дело в том, что когда я пришел в лицей, мне не хватало знаний, хотелось большего. Так я увлекся олимпиадным движением. Ведь олимпиадный тренер и олимпиадный педагог — это особый случай, потому что это не тот педагог, который просто преподаёт по школьной программе. Олимпиадная деятельность требует каких-то других знаний, не уровня кандидатской диссертации, конечно, но уровня университета, такого стабильного третьего-четвёртого курса университета. И этими знаниями нужно уметь с ребятами делиться, уметь заинтересовать их сложным материалом, увлечь трудностями, если хотите. В течение десяти лет я наращивал знания, постепенно реализовывал себя уже в преподавании по линии ВСОШ и получал результаты. Их заметили в Фонде «Золотое сечение» и предложили нам готовить ребят на уровне региона. Надо сказать спасибо фонду, потому что с их помощью нам удается приглашать действительно сильных специалистов. Наша главная задача — создать определённые условия, при которых обучающиеся будут конкурентоспособны на уровне страны. И мы эту конкурентоспособность доказываем. Более того, уже направляем ребят в «Сириус» на подготовку к международным олимпиадам.
Фото: © iStock
— Устраивает ли вас организация олимпиад? Если бы у вас была возможность, что бы вы изменили?
— Что касается уровня регионального и заключительного этапов, то меня вполне всё устраивает. В этом году количество мест по биологии увеличено с 350 до 500, по другим дисциплинам произошло увеличение, поэтому в стране в целом есть абсолютное понимание и тенденция к тому, что олимпиадное движение — это драйвер развития национальной системы образования. Исходя из этого понимания был создан образовательный центр «Сириус», успешно функционирует технология подготовки к олимпиадам и в загородном центре «Таватуй». Это региональный уровень. Но на муниципальном уровне я бы всё же кое-что подправил. Насколько знаю, сейчас этим как раз и занимаются, ведь муниципальный этап — важная часть этапа регионального.
— Сейчас все обсуждают современные технологии и нейросети. Сможете ли вы сами отличить работу реального ученика от ChatGPT?
— Да, могу, пока что это возможно. Есть такие маркеры, которые позволяют отличить реального школьника от нейросети. Но это в том случае, если мы говорим о каком-то развёрнутом ответе. В олимпиадах по биологии очень часто используют тестовые задания. В этом году в Москве провели эксперимент — дали решить нейросети муниципальный этап Москвы. И нейросеть решила муниципальный этап на проходной балл на региональный этап. Мы же понимаем, что Москва — это конкурентная территория, там очень высокие баллы прохода на региональный этап. И нейросеть смогла это сделать. Это говорит о том, что отличить ученика от нейросети в тестовой части уже невозможно. Я думаю, что ещё год-два, и ситуация станет такой же и для развёрнутой части.
Фото: © iStock
— Недавно мы посетили лекцию дизайнера и философа Александра Владимировича Коротича. Он утверждает, что для того, чтобы стать умным, надо научиться решать проблемы и использовать инструментальные знания. Как вы считаете, олимпиадное движение школьников помогает с этим?
— В какой-то степени. Когда обучающиеся готовятся к олимпиаде по биологии, у них есть практический тур. На нём проверяют конкретные навыки работы с каким-то объектом. Поэтому, конечно, в целом Всероссийская олимпиада школьников по биологии, например, регионального, заключительного этапа однозначно помогает школьникам, потому что в них есть практические туры. Ну и, конечно, когда они готовятся к теоретическому туру, они просматривают большой объём контента, который предоставляют университеты. И вот в рамках этого контента преподаватели всё равно рассматривают практическую ценность своей дисциплины. И поэтому, конечно, подготовка к олимпиаде косвенно, а где-то и прямо приводит ребят к осознанию практичности тех знаний, которые они накапливают на протяжении долгого времени.
— Были ли у вас провалы и как бы вы посоветовали с ними бороться?
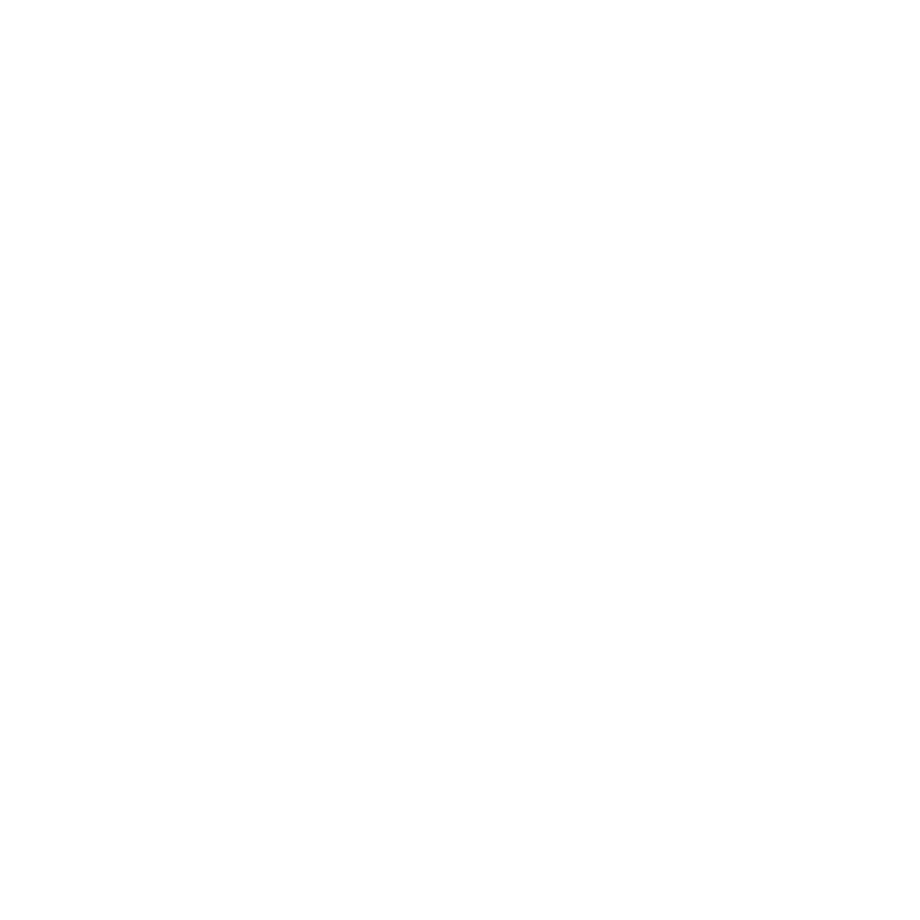
Фото: © Freepick
— Провалы, конечно, были. А бороться… Зачем с ними бороться? Моя абсолютная точка зрения такова, что путь к успеху возможен только через провал. Если провала нет, то и успеха не будет. То есть нельзя почувствовать вкус к победе, если у вас не будет перед ней вот этого самого обвала. Если у вас всё хорошо, то это не хорошо. Я ребятам всегда говорю о том, что вы можете сколько угодно думать о результате, допустим, о дипломе победителя заключительного этапа, но при этом, если вы только будете концентрироваться на результате, у вас ничего не получится. Прежде всего вы должны думать о процессе, когда вы идёте конкретно к этому результату. В этом процессе должны быть и падения, и взлёты. Если у вас будут падения, то вы становитесь более стрессоустойчивыми, вы понимаете вкус той деятельности, которую осуществляете. Некоторые ребята злятся на себя в смысле того, что они не достигли результата. Эта злость приводит к мобилизации собственных внутренних ресурсов и позволяет достичь ожидаемого результата.
— Что для вас успех?
— Он у каждого свой. Успех может быть в моменте, а может быть и на протяжении долгого времени. По-моему, успех — это какая-то сверхудача. Не удача, а сверхудача. В смысле того, что вы достигли чего-то через реализацию своих возможностей, то есть у вас таких возможностей, может быть, и не было, а вы как-то получили их и достигли особого результата. Успех — это что-то кардинально новое в структуре вашего движения. То есть это какая-то точка, финал какой-то вашей деятельности, завершение вашей деятельности на качественно новом уровне. Вот если качественно новый уровень есть, значит, у вас есть успех.
— Недавно на одном из занятий по журналистике мы провели дебаты о том, насколько сильно олимпиадники мешают поступать в вузы по ЕГЭ. Можно ли считать, что с развитием движения ВСОШ снижается потребность в ЕГЭ?
— Потребность не снижается, потому что так или иначе есть перечневые олимпиады, они требуют подтверждения единым госэкзаменом. Что касается олимпиадников, то, наверное, в какой-то мере перекос существует, особенно в топовых университетах. Если мы сделаем качественную олимпиаду, то хорошо, если у нас ребята поступают по этим качественным заданиям. Если ребёнок становится призёром или победителем заключительного этапа ВсОШ, то я считаю, что он имеет полное право поступить без экзаменов в университет. Другое дело, когда мы говорим о девятом классе, например. Существует дискуссия, чтобы убрать такую возможность у девятиклассников, потому что объём знаний в девятом классе значительно меньше, чем в десятом или в одиннадцатом. И поэтому существует определённая несправедливость, что девятиклассник, став призером или победителем заключительного этапа, уже получает свой статус студента любого университета страны и может поступать без экзаменов. Возможно, в этой части стоит подумать, но призёры и победители олимпиад 11 классов однозначно должны иметь такой статус. Я работаю с этими детьми, и я точно могу сказать, что это сверхдети в каких-то моментах, потому что они решают нереальные задания. У госэкзамена другая задача — дать возможность «регионалам» поступить туда, куда они десятилетиями вообще не могли поступить.
— Вы говорите, что олимпиадники большие молодцы. Значит ли это, что в школах нужно измерять знания по количеству «взятых» олимпиад, а не по оценкам? Нужны ли вообще, на ваш взгляд, оценки в школах?
— Есть разница между оценками и отметками. В школах ставят отметки, а не оценки, потому что отметка — это просто число. А оценка — это, прежде всего, перечень критериев, параметров. Всероссийская олимпиада школьников, например, имеет понятные и прозрачные параметры адекватной оценки. Не одарённости, а знаний ребенка. Когда мы говорим об отметке, а не об оценке учителя, она, как правило, субъективна. Потому что, имея разбег от 0 до 5, мы часто ставим от 3 до 5. Мы уже уменьшили разбег: 3, 4, 5. Вот один ребёнок получил 4, а вот другой получил 4. Вы хотите сказать, что они одинаково знают? На мой взгляд, нет. А отметка одна и та же. Когда мы говорим об олимпиадах, там разбег очень большой, всё измеряется в баллах. Они дают чёткое понимание, где ты реально находишься. И к чему стремиться дальше, что делать, о чём думать.
Интервью взяли Злата Климова, Надежда Казакова
2025