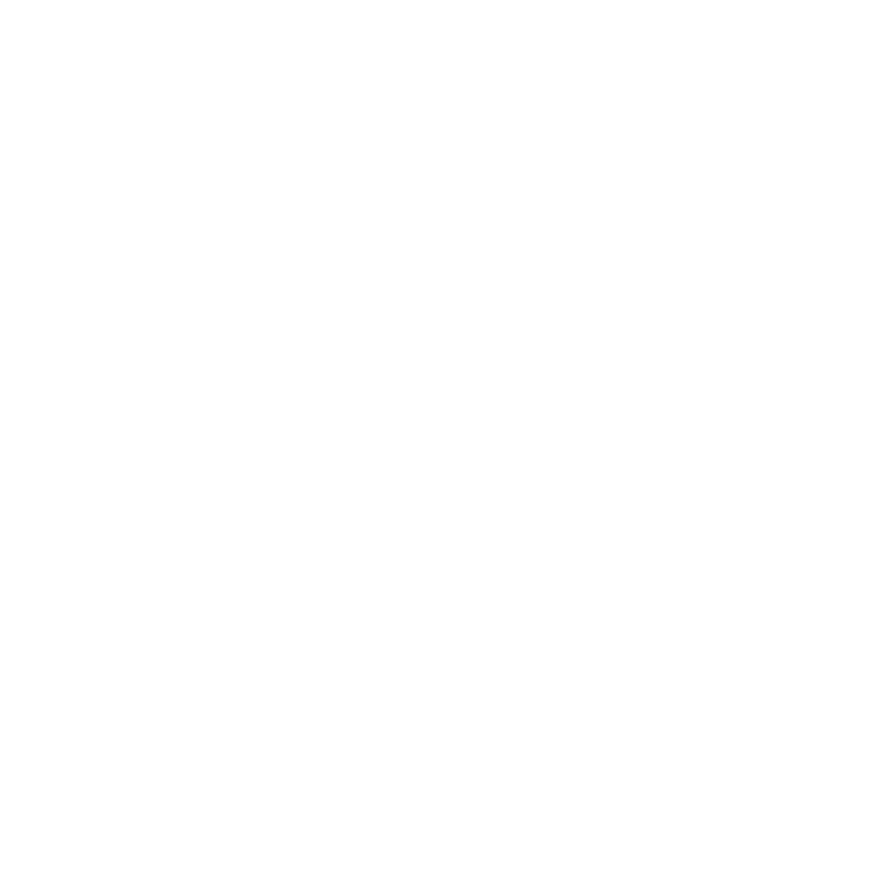Альманах. Сириус. Регионы
литературный сборник молодых авторов
Свердловский метод
Дарья Шаромова
17 лет
Фото: © Adobe Stock
Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»
В годы Великой Отечественной войны Свердловск стал местом, где были созданы все условия для развития «военной» медицины.
Сюда были эвакуированы некоторые исследовательские институты из западной части страны. Свердловск стал крупной госпитальной базой — всего в Свердловской области был развернут 161 госпиталь, а в самом Свердловске — 49, здесь могли одновременно лечиться более 60 тысяч человек. В Свердловск попадали самые тяжелые раненые для длительного лечения и восстановления. Здесь стали работать фармзаводы и станции переливания крови. Словом, в Свердловске и области одновременно шла повседневная борьба за жизни бойцов и совершались открытия в области медицины.
На выходной день — воскресенье — выдалось 22 июня 1941 года. По воспоминаниям Валентины Фишман, старшего лейтенанта медицинской службы, в этот день в столице Урала стояла солнечная и тёплая погода. Вчерашние школьники отдыхали после выпускных вечеров, а студенты восстанавливали силы после экзаменов летней сессии. Внезапно в 14:15 из всех радиоприемников города раздался голос наркома иностранных дел Вячеслава Молотова: «Германские войска напали на нашу страну…»
Фото: © Freepik
Почти все советские граждане, в том числе и семья Фишман, первое время были уверены, что война будет непродолжительной и буквально за несколько месяцев враг будет побежден. Однако всё получилось иначе. Первое время войска Красной армии несли огромные потери, а фашисты вплотную подступали к столице.
Вместе с пониманием серьёзности положения страны приходили всё новые и новые задачи. Одна из важнейших — спасение раненых. Перед советской медициной вставали новые вызовы, на которые нужно было оперативно отвечать.
Уже 23 июня 1941 года, на второй день войны, свердловскую школу № 37 переоборудовали в госпиталь № 1716. А первых раненых Свердловск принял 12 июля. В школе № 9 заменили школьное оборудование на больничное. Адаптировали под госпитали помещения техникумов и институтов. Всего Свердловск передал под госпитали 17 школ, 5 крупных контор, 7 корпусов институтов и техникумов, 2 дома отдыха, гостиницы. Суммарный коечный фонд города включал 16,5 тысяч. Такое же переоборудование происходило в это время в Ревде и Первоуральске, Серове и Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Карпинске, Кушве и других городах Свердловской области.
Вместе с пониманием серьёзности положения страны приходили всё новые и новые задачи. Одна из важнейших — спасение раненых. Перед советской медициной вставали новые вызовы, на которые нужно было оперативно отвечать.
Уже 23 июня 1941 года, на второй день войны, свердловскую школу № 37 переоборудовали в госпиталь № 1716. А первых раненых Свердловск принял 12 июля. В школе № 9 заменили школьное оборудование на больничное. Адаптировали под госпитали помещения техникумов и институтов. Всего Свердловск передал под госпитали 17 школ, 5 крупных контор, 7 корпусов институтов и техникумов, 2 дома отдыха, гостиницы. Суммарный коечный фонд города включал 16,5 тысяч. Такое же переоборудование происходило в это время в Ревде и Первоуральске, Серове и Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Карпинске, Кушве и других городах Свердловской области.
Студенты мединститута, в том числе и второкурсница Валентина Фишман, ежедневно после лекций дежурили возле поступавших раненых. Ночами они шли на станцию «Шарташ», где помогали грузить эшелоны снарядами. Совмещать дежурства в госпитале и учёбу в мединституте студентам было сложно. Дома постоянно было холодно, так что даже замерзали чернила в чернильнице, да и голод давал о себе знать.
Многие профессиональные медики, в том числе и Валентина Фишман, отправились выполнять свой долг на фронт или освобожденные территории. В городе оставались молодые специалисты с незначительным практическим опытом, в основном женщины. Санитарами и медсестрами становились старшеклассники, студенты и домохозяйки. И находившиеся в тылу признаются: ещё не понятно, где врачам приходилось тяжелее — здесь или на фронте.
Многие профессиональные медики, в том числе и Валентина Фишман, отправились выполнять свой долг на фронт или освобожденные территории. В городе оставались молодые специалисты с незначительным практическим опытом, в основном женщины. Санитарами и медсестрами становились старшеклассники, студенты и домохозяйки. И находившиеся в тылу признаются: ещё не понятно, где врачам приходилось тяжелее — здесь или на фронте.
Почти родные сестры
В первое военное лето врачей и медицинского персонала в советской военной медслужбе катастрофически не хватало. Недавние выпускницы педиатрического и гинекологического отделений вынуждены были на ходу обучаться работе с огнестрельными ранениями. Медсёстры, как и врачи, овладевали всеми специальностями для ухода за ранеными: обучались основам лечебной гимнастики, разработки суставов, контрактуры после гипса, массажа. Они помогали не только в палатах, но и в операционных. Работали без выходных, забывая про еду и сон. По воспоминаниям некоторых из них, трудовой день нередко длился больше нормированных 12 часов, а когда и все 24. Три раза в неделю — дежурство по отделению, один раз — по госпиталю. Из-за дефицита оборудования и медикаментов приходилось бесконечно стирать использованные бинты, задействуя любую ткань для перевязок, вручную шить одежду и бельё. И времени мешкать не было. Цена ошибки — человеческая жизнь.
«С медикаментами было очень плохо: не было ваты, исчез новокаин, приходилось удалять зубы без анестезии... Отпусков не было, а в выходные дни посылали копать землю для больничной картошки, пилить дрова», — вспоминала стоматолог Зинаида Федотова из поселка Медный Рудник (ныне Верхняя Пышма).
Раненые подчас поступали с очень страшными следами боев. Среди повреждений встречалось и такое: попадает пуля в висок — и оба глаза навылет. Если разрывная пуля прилетела в лицо, человек мог лишиться обеих челюстей. Оставались одни глаза и висящий на груди язык, с которого капала слюна. На месте лица — рваная рана. Сестры, совсем молодые девчонки, шили клеёнчатые сумочки с лямочками и надевали бойцу на шею, язык клали в сумочку. Сколько потом эти больные перенесли пластических операций... Лицо, нос, щёки, зубы талантливые врачи старались восстановить по фото. Трудно потом было поверить, взглянув на снимок, что это один и тот же человек.
Для этой группы раненых в Свердловске был создан специальный госпиталь — № 414, разместившийся в Доме промышленности. Он же оказался самым крупным в городе — вмещал 1600 коек. Именно там хирурги, словно скульпторы живых тканей, шаг за шагом возвращали раненым утерянные черты лица.
«С медикаментами было очень плохо: не было ваты, исчез новокаин, приходилось удалять зубы без анестезии... Отпусков не было, а в выходные дни посылали копать землю для больничной картошки, пилить дрова», — вспоминала стоматолог Зинаида Федотова из поселка Медный Рудник (ныне Верхняя Пышма).
Раненые подчас поступали с очень страшными следами боев. Среди повреждений встречалось и такое: попадает пуля в висок — и оба глаза навылет. Если разрывная пуля прилетела в лицо, человек мог лишиться обеих челюстей. Оставались одни глаза и висящий на груди язык, с которого капала слюна. На месте лица — рваная рана. Сестры, совсем молодые девчонки, шили клеёнчатые сумочки с лямочками и надевали бойцу на шею, язык клали в сумочку. Сколько потом эти больные перенесли пластических операций... Лицо, нос, щёки, зубы талантливые врачи старались восстановить по фото. Трудно потом было поверить, взглянув на снимок, что это один и тот же человек.
Для этой группы раненых в Свердловске был создан специальный госпиталь — № 414, разместившийся в Доме промышленности. Он же оказался самым крупным в городе — вмещал 1600 коек. Именно там хирурги, словно скульпторы живых тканей, шаг за шагом возвращали раненым утерянные черты лица.
Фото: © Freepik
«Несмотря на суровое время, во всём — идеальный порядок. <…> Поток раненых был ужас какой — очень много поступало тяжелых! Сёстры — все молодые девчонки: Полина, Катя… Недавно рассматривал альбом с их фотографиями. Изумительные! Героини! Все перевязки — на них, уход, следили за состоянием, и переворачивали, и писали письма, и кормили, и делали все процедуры», — вспоминал Мирон Раскин, бывший пациент госпиталя.
Свердловский метод работает
С начала 1930-х годов город предусмотрительно готовился к назревающей опасности. Все школы Свердловска строились по проектам, предполагающим быстрое переустройство под эвакогоспитали. В каждом здании заготавливались запасы медикаментов и инвентаря, сотрудники проходили курсы сандружинников.
Ещё в период Финской войны один из крупнейших госпиталей в России работал на базе областной клинической больницы. Накопленный опыт лечения был обобщен в «Сборнике научных работ по лечению огнестрельных ранений и отморожений в госпиталях глубокого тыла» 1941 года — книге, ставшей настольной для многих советских врачей. Методы раннего хирургического вмешательства, разработанные свердловскими медиками, предотвращали многие осложнения.
Об эффективности лечения красноречиво говорят цифры: в госпитале № 1716 за 27 месяцев работы на лечение поступили около 3250 человек, из которых умерли 13 человек — 0,4 процента от общего количества.
Кроме локальных, внутренних, организационных задач перед уральскими врачами и учёными встала глобальная цель — в кратчайший срок изучить особенности ранений современным оружием и разработать методику их лечения. Скоро стало понятно, что о необходимости разделения и специализации учреждений, в которой высшее руководство сумел убедить главный хирург эвакогоспиталей Наркомздрава Аркадий Лидский. Одними из первых, в силу распространенности повреждений нервов и головного мозга, появились нейрохирургические госпитали и отделения.
«В первые месяцы Отечественной войны мы не могли и мыслить о научной работе, когда в любое время суток, преимущественно ночью, санитарные поезда доставляли раненых, контуженных… Мы были молоды и не сколько уставали физически, сколько морально», — вспоминала одна из учениц Бориса Павловича Кушелевского.
Тем не менее, врачи продолжали исследования и в таких тяжёлых условиях. Так, Аркадий Лидский разработал методику удаления пуль и осколков из мышц сердца, первый пересмотрел принципы лечения многих других ранений, полученных от огнестрельного оружия. Под руководством Льва Ратнера, занимавшего тогда должность хирурга-консультанта санитарного отдела Уральского военного округа, изучали и применяли принципы лечения аневризм крупных сосудов. Окулисты и пластические хирурги Михаил Мухин и Анна Томашевская совместно разработали методы пластики мягких тканей глазных век и глазницы.
«В первые месяцы Отечественной войны мы не могли и мыслить о научной работе, когда в любое время суток, преимущественно ночью, санитарные поезда доставляли раненых, контуженных… Мы были молоды и не сколько уставали физически, сколько морально», — вспоминала одна из учениц Бориса Павловича Кушелевского.
Тем не менее, врачи продолжали исследования и в таких тяжёлых условиях. Так, Аркадий Лидский разработал методику удаления пуль и осколков из мышц сердца, первый пересмотрел принципы лечения многих других ранений, полученных от огнестрельного оружия. Под руководством Льва Ратнера, занимавшего тогда должность хирурга-консультанта санитарного отдела Уральского военного округа, изучали и применяли принципы лечения аневризм крупных сосудов. Окулисты и пластические хирурги Михаил Мухин и Анна Томашевская совместно разработали методы пластики мягких тканей глазных век и глазницы.
«Мне хотели ампутировать кисть левой руки. Я не давал согласия. На моё счастье, госпиталь посетил профессор Лидский — вёл осмотр и консультировал лечащих врачей. У меня пальцы были чёрными, их кололи иголками, но я не чувствовал боли. Меня спросил, отчего я невесёлый. Я ответил, мол, что веселиться, когда мне собираются пальцы отрезать… Он осмотрел меня и спросил врача, почему хотят ампутировать руку. Врач призналась, что не знает, как лечить. Лидский тут же прописал лечение, которому строго следовали. И мои пальцы остались целы, правда, ограничены в движениях, но они мои. Мне на корабль потом писал письма сосед по палате, писал правой рукой, и вот это я считаю настоящим чудом: у него было разбито плечо разрывной пулей. Вот вам героизм военных врачей»
Всех героев медицины, внёсших свой вклад в дело победы, перечислить сложно — это и профессора, и рядовые хирурги, и помогавшие им медсёстры… Новый взгляд на лечение, сформированный уральскими врачами в первые и самые тяжёлые месяцы войны, вошёл в историю как «свердловский метод».
Паста Постовского
Наверняка не все люди, живущие на улице Постовского в Екатеринбурге, знакомы с вкладом своего земляка в Победу. А ведь впору гордиться пропиской на улице, названной в честь такого выдающегося учёного.
По дороге в тыловой госпиталь у раненых могли развиться вторичные гнойно-воспалительные заболевания, от которых они часто и погибали. На помощь пришли сульфамидные препараты, разработанные профессором Исааком Постовским, будущим академиков АН СССР.
С предвоенных лет свердловские химики-органики под его руководством начали синтезировать серию новых лекарств, а медики под началом Бориса Кушелевского, главного терапевта-консультанта уральских эвакогоспиталей в годы войны, провели их клинические испытания и ввели в практику. Сульфаниламиды не только предотвращали воспалительные процессы, но действовали и против других недугов — пневмонии, дизентерии, венерических заболеваний. Они отличались малой токсичностью и высокой эффективностью, что позволяло применять их даже без предварительных анализов, на которые в условиях военно-полевой медицины не было ни средств, ни времени. В отсутствие пенициллина, появившегося только в самом конце войны, именно сульфидины стали основным средством лечения воспаления легких, пневмонии и бронхита.
К началу войны учёные Постовский и Кушелевский разработали также ценнейший дисульфан, помогавший быстро лечить кишечные заболевания, и ряд других полезных препаратов — антидотов ртути, свинца и мышьяка. Изготовлением этих лекарств сразу занялись производства, и вскоре ампулы и порошки распространились по всей стране, включая прифронтовые области.
По дороге в тыловой госпиталь у раненых могли развиться вторичные гнойно-воспалительные заболевания, от которых они часто и погибали. На помощь пришли сульфамидные препараты, разработанные профессором Исааком Постовским, будущим академиков АН СССР.
С предвоенных лет свердловские химики-органики под его руководством начали синтезировать серию новых лекарств, а медики под началом Бориса Кушелевского, главного терапевта-консультанта уральских эвакогоспиталей в годы войны, провели их клинические испытания и ввели в практику. Сульфаниламиды не только предотвращали воспалительные процессы, но действовали и против других недугов — пневмонии, дизентерии, венерических заболеваний. Они отличались малой токсичностью и высокой эффективностью, что позволяло применять их даже без предварительных анализов, на которые в условиях военно-полевой медицины не было ни средств, ни времени. В отсутствие пенициллина, появившегося только в самом конце войны, именно сульфидины стали основным средством лечения воспаления легких, пневмонии и бронхита.
К началу войны учёные Постовский и Кушелевский разработали также ценнейший дисульфан, помогавший быстро лечить кишечные заболевания, и ряд других полезных препаратов — антидотов ртути, свинца и мышьяка. Изготовлением этих лекарств сразу занялись производства, и вскоре ампулы и порошки распространились по всей стране, включая прифронтовые области.
Фото: © Freepik
Тыл и фронт – братья по крови
В здании, которое недавно окончательно снесли в Зелёной Роще, располагался один из крупных госпиталей Свердловска. И там же располагалась городская станция переливания крови, этикетки которой были известны во всех войсковых соединениях на воде, в воздухе и на суше.
Фронту требовались тысячи литров крови. Вначале на передовую самолетами отправлялась консервированная кровь, потом — сыворотка. В 1943 под руководством директора Свердловской станции Моисея Сахарова медики выяснили, что не все части крови одинаково нужны раненому — можно переливать только её плазму. А если её высушить и превратить в порошок, то свойства могли сохраняться годами. Не прекращая приёма доноров, станция сразу поменяла технологию производства — запустили четыре сушильные установки, созданные по заказу на Уралмаше, которые работали по 16–18 часов в сутки, ежедневно производя 150 ампул. В то время Свердловская станция была единственной, выпускавшей сухую плазму в таких количествах.
Фронту требовались тысячи литров крови. Вначале на передовую самолетами отправлялась консервированная кровь, потом — сыворотка. В 1943 под руководством директора Свердловской станции Моисея Сахарова медики выяснили, что не все части крови одинаково нужны раненому — можно переливать только её плазму. А если её высушить и превратить в порошок, то свойства могли сохраняться годами. Не прекращая приёма доноров, станция сразу поменяла технологию производства — запустили четыре сушильные установки, созданные по заказу на Уралмаше, которые работали по 16–18 часов в сутки, ежедневно производя 150 ампул. В то время Свердловская станция была единственной, выпускавшей сухую плазму в таких количествах.
Армия сказала: надо! Фармзавод ответил: есть!
| До войны основная мощь советской фармацевтики располагалась на Западе страны, и в первые месяцы войны более 40 предприятий оказались в оккупации. Большая часть из них была уничтожена, армейские запасы медицинского инвентаря, оборудования и лекарств — тоже. Армия осталась без эфира для наркоза, стрептоцида, глюкозы, морфина, новокаина, йода, аспирина и перевязочных средств. В ходе всеобщей эвакуации фармацевтические заводы из Ленинграда, Киева, Харькова, Курска и Москвы были перевезены в Сибирь и на Урал. Так, в Ирбите появился фармзавод, выпускавший акрихин, красный и белый стрептоцид, наркозный эфир. Свердловский бактериологический институт наладил производство 37 наименований — в том числе сыпнотифозной вакцины, противостолбнячной сыворотки, анатоксина. За три года он выпустил продукции в два раза больше, чем за предыдущие 22 года своего существования. Созданный в 1941 году Свердловский медико-инструментальный завод выпускал скальпели, зажимы и пинцеты, а фармзавод — настойку валерианы, антисептические средства и уже упомянутый сульфидин. |
Фото: © Freepik
По всей области спешно организовались галено-фасовочные лаборатории, чаще всего — в случайных, малоприспособленных зданиях без технологического пара, водопровода и канализации. Вредное производство сокращало жизни ампульщиц, таблетчиц, которые, как и все, работали круглосуточно, бесперебойно снабжая тыл и фронт.
Герои носят не плащи, а белые халаты
Поток раненых начал ослабевать только зимой 1945-го, когда часть госпиталей уже была эвакуирована в освобожденную центральную часть страны, однако работа в тылу не прекращалась до самого конца. По-прежнему сюда оправляли самых тяжелых больных, требовавших серьёзных операций и длительного лечения. Поэт Евгений Евтушенко, побывав здесь, сказал: «Свердловск — это Сталинград нашего тыла…» Все 1418 дней и ночей санитары и медсестры, хирурги и учёные принимали, исследовали, лечили и возвращали… и снова принимали, и снова возвращали.
«Такого большого числа вернувшихся в строй солдат (около 17 миллионов) не было ни в одном государстве, участвовавшем во Второй мировой войне»
Врачи, работавшие в эвакогоспиталях, сумели восстановить в рядах армии 72,3 % раненых и 90 % больных воинов — почти в два раза больше, чем смогли в Германии.
В 1943 году появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями уральских медиков. «За самоотверженную работу в эвакогоспиталях...» были удостоены почестей известные врачи и рядовые медсёстры, узкие специалисты и крупные руководители, работники эвакогоспиталей и представители гражданской медицины. Урал стал «опорным краем державы» не только благодаря силе духа бойцов и закалённому в заводских цехах оружию. Тяготам военного лихолетья каждую минуту противостояли они — люди в белых халатах.
Свердловский метод в широком смысле распространяли все — и те, кто трудился в Свердловске, и те, кто работал на фронтах. И старший лейтенант медицинской службы Валентина Фишман, написавшая своё имя на Рейхстаге.
Свердловский метод в широком смысле распространяли все — и те, кто трудился в Свердловске, и те, кто работал на фронтах. И старший лейтенант медицинской службы Валентина Фишман, написавшая своё имя на Рейхстаге.
2025